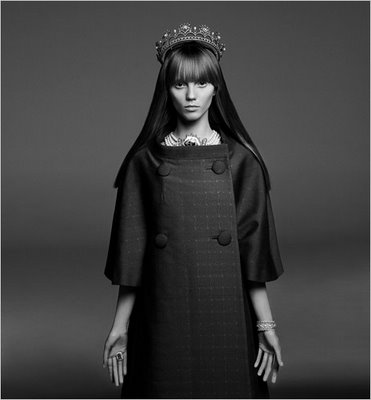Еще один персонаж из книги "Ювелиры - ювелирное искусство России ХХI века", которая готовится к печати в издательстве "Премьера Паблишинг".
Я не буду делать вид, что я открываю миру ювелира Алексея
Барсукова. Интернет наводнен статьями восторженных девушек с богатым внутренним
миром, влюбленных в то, что он делает. И немножко – в него самого, поскольку он
неотделим от своих произведений. Барсуков – вовсе не стертый пятак в дорожной
пыли, который можно найти лишь случайно. Его крест носит Элтон Джон, а
маленький медвежонок его работы болтается на шее нынешнего князя Монако.
За плечами Алексея Барсукова – Строгановская академия и
работа главным художником на одном из крупных московских ювелирных заводов. Но
все, что он делал на заводе, подвергалось нещадной «редактуре», в результате
которой от пышной елки оставался телеграфный столб. Работа в «структуре»
убедила Алексея в одном – больше никогда и нигде «служить» он не будет.
При первом знакомстве мне были продемонстрированы серьги в
виде пропеллеров. При малейшем ветерке они начинали вертеться. Сделанные из
меди, покрытые патиной, они не были похожи на то, что мы привыкли называть
«ювелирным украшением». Но в то же время безусловно им были – даже если сделать
их из золота и осыпать бриллиантами, они ничуть не изменили бы своей сути.
Дизайн в его полной завершенности.
Конечно, образование и опыт позволяют ему
самому крепить камни и полировать, но ему это не интересно. Жаль тратить на это
время – мысль уже бежит вперед. По той же причине он не любит делать повторы
своих вещей – все они разные, даже если отлиты по одной модели.
Если Энди Уорхол брал привычные в быту предметы и увеличивал
их, превращая в объекты искусства, то Барсуков действует ровно наоборот.
Браслет из советских медных копеек, затейливо сваренных друг
с другом – я знаю даму, которая надевает его на самые «бриллиантовые» приемы, и
все толпятся вокруг нее с вопросами – а что это такое? Серьги в виде
стульчиков. Серьги в виде лошадок-качалок. Подвески в виде детских игрушек –
мишек: не сладких, какими их делают обычно, а старых, залюбленных, в заплатах,
с дурашливо-романтическим выражением на мордах. Все это почти ничего не стоит в
денежном выражении (если судить по цене материалов). И в то же время каждая
вещь бесценна.
И в этом – главный принцип дизайнера Алексея Барсукова. Он
убежден, что для того, чтобы быть красивым, украшению вовсе не обязательно быть
дорогим. Он умудряется высказаться на сто процентов в любом материале – бронзе,
серебре, дереве. Конечно, он умеет работать и в золоте с бриллиантами. Но, если
увлечется коммерцией и «гламуром»,
потеряет тех поклонников, кто наиболее близок ему по духу –
друзей-художников, студентов, актеров, музыкантов…
Его рука узнается сразу. Ни один из симпатичных обитателей
его зверинца не повторяет другого. У всех – разные «лица», характеры, но все
они неуловимо похожи на самого автора. Детским взглядом, немного растерянным
выражением лица, тонкой иронией и отстраненностью. Знаю по собственному опыту –
если на груди качается барсуковский ежик или медведь, люди вокруг теряют разум.
Начинают хватать тебя руками за шею. Причем не только в Москве, но и за
границей.
Барсуков, как Том Сойер, смотрит на мир глазами мальчишки,
которому интересно все – от дохлой мыши до самолета. Неутомимый исследователь
окружающего мира, неизменное восхищение которым у художника нередко
сопровождается интересом вивисектора.
Медведь у Барсукова – тот самый, которому оторвали лапу:
«Все равно его не брошу, потому что он хороший». Ежик – только что вышел из
тумана с чайником или котомкой в руках. Жираф с разноцветными глазами. Целая
поляна грибов – и все поганки. Сказочный мир, в котором есть место и шутке, и
слезам, и детской жестокости, и милосердию.
Неизменная ирония сопровождает все вещи этого автора. В 90-е
– октябрятская звездочка, на которой малютка-Ильич зевает. Сегодня – броши с
образами мужиков и баб с картин Малевича или «наше все» - кудрявый Пушкин.
Когда-то я просила его сделать кольцо в виде головы Наполеона. «Куда будем
бриллианты ставить?» - деловито спросил художник. И поставил их в лысеющую
голову полководца. «Пусть у Наполеона будет перхоть, а то он слишком
идеальный!»
У меня собрана большая коллекция работ Барсукова. Сам он
этим обстоятельством недоволен. Считает, что вещи должны носиться, а не
храниться в коллекции. Конечно, он прав. До всего руки не доходят. Но каждая
вещь вызывает восторг и желание ее получить. И справиться с этим чувством
нелегко. Знаю многих, которые думают так же, как я. И собирают «Барсукова» в
полной уверенности, что это – предметы современного искусства.
Сопротивляться обаянию этих вещей бесполезно. К Барсукову не
прилипают определения. Он – ангел. Ангел детства. Живет среди нас, чтобы мы не
забывали, откуда мы родом. И что лучшее, что в нас есть и что с нами случается,
- именно оттуда.